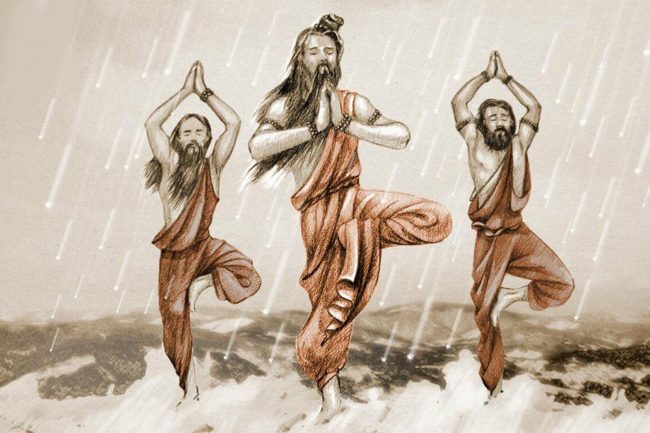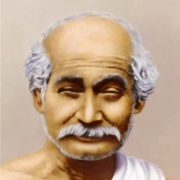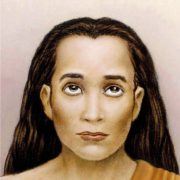■—Только не миссионером, Дон! Так много можно совершить и в этом мире. Не хочешь ли ты похоронить себя на каком-нибудь необитаемом острове?!
■Сила ее реакции пошатнула мое еще довольно неустойчивое стремление. ;;1Сто, в конце концов, я в знаю о призвании миссионера? Во всяким случае, сомнение всегда было моим личным адом.
После года учебы в школе «Хэккли» пришло время моего поступления в «Кент».
«Кент» представляет собой подготовительную школу старейших университетов Новой Англии, особо престижную в образовательном и социальном плане.
Я прибыл в «Кент» с большими надеждами. Но скоро я понял, что интересы мальчиков здесь не очень отличались от интересов ребят в «Хэккли»; добавился только настрой, в котором ведущую роль играло высокомерие в форме призывов: «Все для Бога, страны и нашей школьной команды». Наставники ожидали от своих подопечных принятия всех социальных норм, симпатий и антипатий, свойственных «правильным» людям, и гордости за профессионализм во всех «правильных» делах, особенно тех, что относились к сексу и выпивке. Горе тому незадачливому юноше, который танцевал под другую музыку. Смеяться громче всех, отпускать самые грязные шутки, просто шумно проводить время и широко улыбаться каждому встречному («О, привет, Дон!»), пытаясь понравиться другим. Все это были знамена успеха. Подчинение этим правилам позволяло достигнуть высшей награды: популярности. Непокорность обрекала на неодобрение и презрение.
Из собственного опыта я знал, что обладаю способностью находить друзей. Но что мне было делать, если, как ни старался, я просто не мог разделять энтузиазма моих товарищей по учебе? Дело было не в том, чтобы воспринимать новые реалии на их уровне, как это было в Англии. Там по крайней мере уважают принципы. Здесь же принципов не было —только эгоизм, самовлюбленность и собственные интересы. Я был бы в состоянии завоевать прочную позицию, если бы мог выкрикивать, хвастаться и высмеивать других. Будучи по природе несколько застенчив, я не хотел высказывать мои мысли, если чувствовал, что они будут отвергнуты.
Поэтому я становился очень замкнутым, несчастным, убежденным в том, что моя жизнь с самого начала обречена на неудачу. Среда, которая требовала абсолютного конформизма, и неспособность примириться с ней—все это вело к грустным размышлениям. Постепенно и другим становилось очевидно то, что мне было ясно давно: я был одним из тех обреченных существ, которых человеческая раса всегда производит в ограниченном числе и для которых характерны дисгармония с обществом, постоянное замешательство, — неполноценным существом.
И все же в глубине души я знал, что это суждение было ошибочным.
Я делал все, что мог, чтобы вписаться в жизнь школы. Я писал заметки в школьную газету о событиях спортивной жизни, писал с вдохновением. Но уже две первые статьи охладили мой пыл. Мой юмор на священную тему спорта был воспринят как проявление богохульства. Редактор сначала весело улыбнулся, но
затем умиротворил свою совесть тем, что воздержался принимать от меня новые опусы. Я пытался принимать участие в диспутах, но скоро обнаружил, что не мог выступать в защиту идей, в которые искренне не верил. Я вступил во французский клуб, однако члены клуба в основном были такими же одинокими изгоями, как и я. Я играл в футбол, занимался греблей и пел в хоре.
Ничего не помогало. В дружбе, которую мне удалось завязать с несколькими ребятами, ощущался какой-то привкус стыда, молчаливого понимания того, что это было товарищество неудачников.